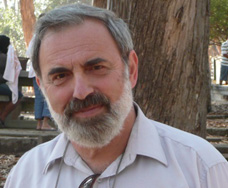Предисловие
Ни одна климатическая или экологическая теория не вызывала в последние годы столь повышенного общественного интереса, столько дискуссий и разногласий, сколько концепция так называемого «глобального потепления» (global warming — GW)[1] или, более точно, концепция повышения средней температуры поверхности Земли из-за антропогенной эмиссии парниковых газов, в первую очередь углекислого газа. С одной стороны, ряд лет уже действуют международные соглашения о снижении эмиссии двуокиси углерода, в частности, Киотский протокол, ратифицированный подавляющим большинством стран; с другой — сохраняются сомнения в целесообразности борьбы с этой эмиссией и продолжают появляться довольно многочисленные публикации в средствах массовой информации и на Интернет-сайтах, где утверждается, что повышение содержания углекислого газа в атмосфере практически не оказывает влияния на климат. В полемике сторонников и противников концепции антропогенного потепления чисто научные вопросы все чаще отступают на второй план, а на первый выдвигаются политические, экономические и даже моральные аспекты. Страсти накаляются до такой степени, что время от времени то одна, то другая сторона аппелируют к властям предержащим или грозят оппонентам судебным преследованием.
Признаюсь, что я — не климатолог, не эколог и профессионально проблемой влияния человеческой деятельности на климат никогда раньше не занимался. Я и не журналист, набивший руку в освещении сенсационных и скандальных ситуаций*. Стараясь составить свое собственное мнение, я потратил немало времени, изучая публикации по проблеме GW. Однако несмотря на неплохое образование и приличный стаж работы в науке, а может быть именно поэтому, я не смог придти к твердому и окончательному мнению о том, кто прав, а кто неправ в споре сторонников и противников концепции GW и, если неправ, то в чем именно и насколько. Поэтому данная публикация не является попыткой убедить кого-то в том, что глобальное потепление действительно имеет место и вызвано человеческой деятельностью, или, наоборот, в том, что все это выдумки.
Что я хочу сделать — это рассказать историю событий, связанных с возникновением и формированием концепции GW и постепенной ее политизацией. История эта, на мой взгляд, любопытна и драматична, а некоторые ее персонажи — люди незаурядные. Однако их имена мало знакомы или вовсе незнакомы российскому читателю, да и русскоязычному американскому тоже. Отчасти это, видимо, связано с некоторой разницей между тем как указанная проблема освещалась в англоязычных и русскоязычных средствах массовой информации.
Число англоязычных публикаций очень велико, и американский или британский читатель, заинтересовавшийся этой проблемой, при желании может найти и сравнить публикации как сторонников, так и противников концепции GW, узнать мнение как специалистов-профессионалов, так и журналистов, политиков, государственных деятелей. В России интерес к этой проблеме никогда не был таким значительным как в США, соответственно, число публикаций в СМИ значительно меньше. При этом и в российских, и в русскоязычных американских СМИ доминирует скептическое отношение и к самому факту GW, и к идее о возможности влияния человеческой деятельности на климат, и уж совсем негативное отношение к Киотскому протоколу и сторонникам его ратификации[2]. Этот протокол, как и другие международные соглашения, требующие уменьшить объем сжигания углеводородных топлив с целью снижения эмиссии двуокиси углерода, вызывают естественные опасения, что выполнение этих требований нанесет значительный вред экономике. И именно это во многих случаев является подоплекой негативного отношения или недоверия не только к Киотскому протоколу, но и к научной части концепции GW.
Что до меня, то я старался занять по возможности нейтральную позицию. Но при этом мне хотелось отделить «зерна от плевел» и «агнцев от козлищ», то есть науку от политики и, соответственно, ученых от политиков. Хотелось также проследить, как получилось, что интересная и, казалось бы, нормальная научная работа привела к расколу в научном сообществе, возбуждению страстей и даже скандалам. Насколько мне известно, в русскоязычном варианте подобных публикаций не было.
На английском языке написан ряд книг и обзоров, например, [2 — 5][3]. Но я не собираюсь предложить читателям их русскоязычную компиляцию.
Во-первых, излагая физическую суть проблем, я попытаюсь, по-возможности, заполнить разрыв между статьями специалистов с одной стороны и публикациями, авторы которых вникнуть в эту самую суть не очень старались, с другой.
Во-вторых, мне хотелось бы, наряду с «научно-исследовательской частью» истории, осветить историю, если можно так выразиться, человеческую, историю в лицах.
Наконец, в-третьих, мне хотелось бы, уделить по возможности, больше внимания вкладу представителей России в эту историю и вообще приблизить свой рассказ к русскоязычному читателю.
Как я заинтересовался проблемой всемирного потепления
Мой интерес к проблеме GW возник после нескольких случайных разговоров со знакомыми из числа русскоязычных эмигрантов немолодого, как и я, возраста. Дело было в 2008 году. Поскольку раньше этой проблемой я не интересовался, то пропустил время, когда широко рекламировались книга и фильм Альберта Гора “An Inconvenient Truth” (Неудобная правда) и когда, судя по рассказам, в средствах массовой информации доминировали публикации «алармистов» глобального потепления. В 2008 году президентом уже был Буш-младший, и большинство газетных и журнальных публикаций и комментариев в Интернете скорее выражали скептическое или негативное отношение к концепции GW и Киотскому протоколу. Америка отвергла ратификацию этого протокола, а стало быть и не очень-то «пострадала» от активности Гора и других «алармистов». Правда в 2007 году Гор получил Нобелевскую премию, что на его оппонентов подействовало как красная тряпка на быка.
Вот и мои собеседники отрицали реальность изменения климата, не говоря уж об антропогенном происхождении этих изменений, и ругали Гора нехорошими словами. Я же высказался в том духе, что бог с ним с Гором, а также другими политиками и журналистами — они ведь не специалисты; важно узнать, что считают ученые. Оказалось, однако, что кое-кто из моих собеседников относится к ученым немногим лучше, чем к Гору. Ученые, мол, руководствуются материальной выгодой, а вовсе не стремлением к истине, и, если им хорошо заплатить, выделить гранты, то, в зависимости от заказчика, они откроют потепление, охлаждение или что угодно еще.
Такой поворот беседы мне, честно говоря, не очень понравился. Как-никак, всю сознательную жизнь я провел среди людей, занимающихся научными исследованиями, сам был одним из них, хотя и не называл себя никогда громким словом «ученый», и соглашаться с тем, что все известные мне, а также и неизвестные коллеги продажны и жуликоваты, мне не хотелось. Не то чтобы я считал, что труженики науки являются безукоризненными образцами высокой морали и нравственности. В конце концов, ученые — обычные люди, и ничто человеческое, включая грехи и пороки, им не чуждо. И все же больщинство тех, с кем мне довелось работать бок о бок, были добросовестными людьми, а случаи непорядочного поведения были скорее исключением, чем правилом. Хотя стремление получить финансирование иной раз подталкивало автора заявки на грант приукрасить актуальность и значимость предлагаемого проекта, явного вранья, как правило, никто не писал. С сознательной подтасовкой научных данных в корыстных целях за много лет работы я не встретился ни разу. И уж, тем более, не мог себе представить, чтобы подобными манипуляциями занимались одновременно много исследователей в разных странах.
К тому же в тот момент мне было непонятно, кто и почему готов платить за пропаганду GW и сокращение промышленных выбросов углекислого газа[4]. Легче было представить себе, кто заинтересован в отсутствии любых ограничений такого рода. По крайней мере, российская действительность, которую я знал лучше, давала примеры того, что организации и ведомства, имеющие деньги — государственные и частные промышленные предприятия, различные министерства, военные ведомства и т.п. — обычно выступали в качестве оппонентов по отношению к экологам или «зеленым», требующим запретить или ограничить выброс каких-либо производственных отходов в окружающую среду, отменить решение о строительстве опасных или сомнительных с экологической точки зрения объектов. Естественно, о том, чтобы эти ведомства финансировали экологов не могло быть и речи. Шансы получить деньги имели, наоборот, эксперты, нанятые этими ведомствами для того чтобы доказывать безвредность выбросов, безопасность объектов.
О чем сообщали средства массовой информации
Решив в этом разобраться, но не имея еще намерения заниматься проблемой GW всерьез, я полез в Интернет. Количество публикаций и сообщений, высыпавшихся в ответ на мои запросы, повергло меня в ужас. В ряде случаев даже при беглом просмотре бросались в глаза поверхностность и явно ощущаемая предвзятость. Оказалось, что многие публицисты, пишущие о проблеме глобального потепления, руководствуются не столько специальными знаниями и реальным пониманием проблемы, сколько политическими симпатиями и антипатиями. В Америке, например, если некто симпатизирует демократам, то он безоговорочно готов мобилизовать все силы на борьбу с этим бедствием. А если он, наоборот, сторонник республиканцев, то ему совершенно ясно, что никакого глобального потепления нет и быть не может.
Тогда я отыскал на сайтах российских средств массовой информации материалы авторов, имена которых были мне знакомы по прежней российской жизни и внушали некое уважение. Общей чертой большинства найденных статей оказалось остро критическое, негативное отношение к концепции GW, к ее сторонникам и создателям. Вместе с тем, обращала на себя внимание безымянность этих создателей и сторонников. Авторы статей клеймили их, не стесняясь в выражениях, но не называли их имен. Вот характерные примеры.
Андрей Илларионов — известный российский экономист, аналитик и публицист, в недалеком прошлом советник президента Путина по экономике, говорит о создании мифа небольшой группой, своего рода сектой «сторонников климатического алармизма». Секта пытается запугать мир грядущим GW, вызываемым якобы деятельностью человека, с целью установить контроль над экономикой всей планеты. И этой «секте удалось обратить в свою веру руководство большинства европейских государств, Японии, Канады»[5]. Имена алармистов (членов секты) не названы.
Юлия Латынина — талантливая российская журналистка с острым и бойким пером — разразилась серией статей под общим названием «Климатократия». Она пишет: «Мы имеем дело с первым в мире научным открытием, совершенным бюрократами из Организации Объединенных Наций. Глобальное потепление придумала глобальная бюрократия». Здесь, по крайней мере, ясно, что это камень в огород IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) — межправительственной комиссии при ООН по контролю за изменениями климата. Ряд политиков, а также чиновники и эксперты ООН, действительно играли определяющую роль в истории разработки и принятия Киотского протокола. Но и они в статьях Юлии Латыниной безымянны. Мысль о том, что к концепции GW имеют отношение какие-либо нормальные честные ученые, Латынина, судя по всему, не допускает.
В обоих случаях, как и во многих других, ничего не говорилось о парниковом эффекте, о том как, почему и у кого возникла идея о потеплении, вызванном усилением парникового эффекта за счет антропогенных факторов. Соответственно, не приводились и доказательства ошибочности этой идеи. В качестве аргумента против антропогенного происхождения потепления выдвигается тот факт, что на протяжении всей истории Земли, т. е. в доиндустриальную эпоху, когда, естественно, не было эмиссии парниковых газов из-за человеческой деятельности, неоднократно возникали и чередовались периоды похолодания и потепления. И значит — делается вывод! — нынешнее потепление, если оно и есть, тоже не связано с человеческой деятельностью.
Однако логически этот вывод небезупречен. Существование изменений климата, не связанных с человеческой деятельностью и обусловленных иными причинами, скажем, флуктуациями потока солнечного излучения, само по себе не является доказательством того, что климат не может меняться из-за человеческой деятельности. Нет такого закона природы, который запрещал бы появление новых факторов, влияющих на климат, вдобавок к уже имеющимся. На чем основана уверенность критиков, что человеческая цивилизация на определенном этапе развития не может стать таким фактором? Вопрос риторический. А практический вопрос в том, насколько убедительно возможность антропогенного усиления атмосферного парникового эффекта обоснована в работах авторов этой идеи и можно ли на основании имеющихся данных отличить действие одних природных механизмов от других. Но как раз об этом в упомянутых статьях ничего не говорилось.
Уверенный, можно даже сказать, безапелляционный тон критических публикаций Илларионова, Латыниной и ряда других авторов показывает, что никаких сомнений в правильности своих оценок у них нет. Они искренне убеждены, что концепция усиления парникового эффекта из-за человеческой деятельности — афера. Но тогда возникает естественный вопрос: почему руководители более, чем 190 стран — в большинстве своем люди вменяемые и к тому же имеющие штат помощников, консультантов и экспертов — сочли нужным подписать и ратифицировать Киотский протокол. Были у них какие-то для этого основания или вообще никаких?
И другой вопрос: если все же это афера, то кто является ее автором (авторами)? Кто выдумал это глобальное потепление с целью нагреть на нем руки? Хотелось воскликнуть, перефразируя известное Грибоедовское выражение: «А обвиняемые кто?». Пусть политики, представители бизнеса и чиновники ООН сыграли каждый свою роль в этой эпопее. Но придумали-то GW все-таки не они. Как политикам или чиновникам могла придти в голову такая безумная идея — выдумать GW? Не с неба же, не из тропосферы, она свалилась прямо в их офисы.
Между тем, единственное конкретное имя, которое встретилось в большинстве критических статей — это бывший вице-президент США Альберт Гор. В Америке, действительно, многие убеждены, что это Альберт Гор. Надо отдать должное этому джентльмену: он немало потрудился, чтобы такое впечатление возникло. Тут вам и фильм, и книги, и Нобелевская премия. Но мне казалось очевидным, что бывший вице-президент не мог быть ни первооткрывателем явления GW, если таковое существует, ни автором научной концепции (или даже псевдонаучной, даже антинаучной), а лишь пропагандистом[6].
Невольно закрадывалось подозрение: а может быть вышеназванные авторы, как и большинство других, пишущих для СМИ, не являются специалистами, а потому не знают или не понимают ни механизма парникового эффекта, ни того, почему рост концентрации двуокиси углерода может стать причиной его усиления? Да и зачем им разбираться в физике или истории исследований парникового эффекта, если они убеждены, что речь идет не о научной теории, описывающей реальное природное явление, а об афере, о политической, финансовой или экономической интриге?
Однако наряду со статьями непрофессионалов встретились мне и публикации ученых, причем весьма известных. Так, например, очень активным критиком концепции GW оказался Александр Городницкий, доктор геолого-минералогических наук, член РАЕН, а также поэт, бард и вообще человек очень уважаемый многими (и мною в том числе). Количество интервью, статей и выступлений Городницкого, полностью или частично посвященных критике этой концепции, чрезвычайно велико, и даже песня о глобальном потеплении им тоже написана.
Единственной реальной причиной, способной вызывать изменение глобальной температуры Земли, по мнению Городницкого, может быть только изменение величины потока солнечной радиации. Подробнее о такой точке зрения, которой придерживается не только Городницкий, но и некоторые другие специалисты, и об их аргументации, я расскажу в одном из следующих разделов, который будет полностью посвящен изложению и сравнению взглядов сторонников и противников концепции антропогенного происхождения нынешних климатических изменений. Здесь отмечу лишь, что Городницкий, подобно Илларионову и Латыниной, полагает, что идея потепления, вызванного антропогенной эмиссией углекислого газа, не имеет научного обоснования и является в чистом виде выдумкой, более того выдумкой злонамеренной, затеянной с неблаговидными целями, то есть аферой. В ряде статей он высказывает предположение, что кто-то заработал на этой афере миллиарды, что «на этом одни компании разорялись — скажем, угледобывающие, а другие нажились».
Впрочем, кто конкретно разорился, кто заработал и сколько именно, Александру Городницкому, судя по всему, тоже неизвестно. Возможно поэтому в других публикациях он, подобно многим, ответственность за выдумку возлагает на Альберта Гора. Он пишет: «Начало весьма популярному в наше время мифу о глобальном потеплении было положено американским вице-президентом Альбертом Гором, выпустившим в 2007 году книгу под интригующим названием «Неудобная правда» и документальный фильм с аналогичным названием». Городницкий сетует, что за эту безграмотную и вредную книгу и фильм Гору присудили «престижную международную Нобелевскую премию без какого бы то ни было научного обсуждения».
Нельзя не согласиться: весьма странная Нобелевская премия. Справедливости ради, однако, следует учесть некоторые существенные обстоятельства. Во-первых, речь идет не о премии по физике или химии, а о Нобелевской премии мира, которая, как известно, дается не за науку, а за политику. В данном случае премия была присуждена с формулировкой «for efforts to build up and disseminate greater knowledge about man-made climate change, and to lay the foundations for the measures that are needed to counteract such change», из чего следует, что премия присуждена фактически за пропаганду и что Нобелевский комитет не считает Гора автором концепции GW. Во-вторых, ясно, что без ученых это дело не обошлось. У Гора наверняка были научные консультанты, и, главное, Гор получил премию не единолично, а совместно с группой экспертов уже упомянутой IPCC. Среди экспертов был ряд ученых из разных стран, в том числе, российский академик Юрий Израэль — в недалеком прошлом председатель комитета по гидрометеорологии СССР. Выяснить эти обстоятельства не составило труда, и мне показалось странным, что Городницкий этого не упоминает.
Еще более странно было прочесть в одном из его многочисленных интервью, что «до начала XXI века вообще не существовало никакой научной теории парникового эффекта и влияния парниковых газов на тепловые режимы атмосферы». Я, хоть и не склонен был в тот момент преувеличивать свою осведомленность об истории вопроса, все же знал, что явление парникового эффекта было объяснено еще в девятнадцатом веке и что исследования в этом русле, как бы ни относиться к их результатам, продолжались в течение всего двадцатого века.
Кроме публикаций Александра Городницкого при беглом просмотре Интернета мне встретились публикации еще двух ученых. Один из них — также личность очень известная и бесспорно уважаемая. Это профессор-географ, член-корреспондент РАН Андрей Капица. Другой — доктор физико-математических наук профессор Игорь Ларин, председатель комиссии по химии атмосферы межведомственного геофизического комитета при президиуме Российской Академии Наук. Точка зрения Андрея Капицы очень близка к точке зрения Городницкого. Он также считает, что изменения климата Земли, как в историческом прошлом, так и ныне, происходят исключительно под влиянием циклических изменений мощности потока солнечного излучения, а теорию влияния антропогенной эмиссии СО2 на температуру Земли называет псевдонаучным мифом.
Точка зрения Игоря Ларина диаметрально противоположна точке зрения Капицы и Городницкого. По его мнению, именно выброс в атмосферу антропогенных парниковых газов, начавшийся примерно с 1860 года, т.е. с начала индустриальной эпохи, стал причиной нынешнего потепления. Ларин отстаивает надежность данных, представленных экcпертами IPCC, а Латынину, Илларионова и даже Андрея Капицу обвинил в некомпетентности. При этом заметил, что географу это простительно, «поскольку от географии до атмосферных процессов, в которых А.П. Капица не профессионал, а любитель, как от земли до неба».
Я понял, что единства мнений среди специалистов нет. Впрочем, кого можно считать специалистом, а кого нет — тоже не вполне ясно. Так или иначе, стало очевидно, что быстрых ответов на свои вопросы я не получу, что нет смысла тратить время на изучение публикаций в СМИ, что нужно добираться до первоисточников и что это занятие не на день-два и даже не на месяц. Но я уже увлекся. История зарождения и развития концепции, ставшей предметом столь острых разногласий, меня заинтриговала, и я решил попробовать в ней разобраться. Я сказал себе, что даже если вся эта история представляет собой цепь ошибок и заблуждений, даже если она отягощена чьими-то неблаговидными действиями, она стоит того, чтобы ее изучить, а затем судить о ней и излагать ее объективно и непредвзято, впрочем как и любую историю вообще.
Что я знал до того...
Что знал я об этой проблеме до того как ею заинтересовался? Немного. В общих чертах я представлял себе, что такое парниковый эффект земной атмосферы и помнил, что это явление было открыто еще в девятнадцатом веке. Поскольку моей специальностью является молекулярная спектроскопия и мне много приходилось иметь дело со спектрами поглощения различных молекул в инфракрасной области, понять, какие именно газы и почему рассматриваются в качестве парниковых, было несложно. Моя эрудиция в вопросах, касающихся физики и химии атмосферы, могла бы быть и побольше, так как на физическом факультете Санкт-Петербургского университета, где я работал много лет, существует довольно сильная кафедра физики атмосферы[7], и некоторые мои коллеги по кафедре молекулярной спектроскопии сотрудничали с атмосферщиками[8]. Но мои научные интересы в те годы концентрировались в иной области. О том, может ли парниковый эффект измениться под влиянием человеческой активности, я никогда не задумывался.
Вместе с тем, когда в последние лет двадцать до моего отъезда в Америку, то есть, начиная примерно с 1985 года, мне случалось иной раз слышать разговоры об изменении климата в сторону потепления, я, основываясь на чисто житейских впечатлениях, склонен был считать, что эти разговоры имеют под собой реальную почву. Было такое ощущение, что в эти годы зимы в Санкт-Петербурге (Ленинграде) стали менее морозными, а лето более теплым и душным. В среднем, конечно. Примерно то же самое я слышал от знакомых в Польше и Германии, где в 90-х годах бывал неоднократно и подолгу.
В конце 90-х и в начале 2000 годов в Восточной Европе по весне стали часто происходить наводнения. Об одном из них — в польском городе Вроцлаве — я знал не понаслышке. Я, к счастью, уехал оттуда примерно за пару недель до наводнения, а вот мой друг и коллега из-за наводнения не смог уехать и застрял там. Его приютили друзья, жившие в отдаленной, более высокой части города. Причиной наводнения было обильное таяние снегов в горах и переполнение реки Одры (по-немецки Одер). В принципе, наводнения в этих краях ранее уже случались, и предусмотрительные немцы в свое время (когда это был ещё не Вроцлав, а Бреслау) построили специальные защитные сооружения. Но наводнение 1997-го года было сильным как никогда до этого, и сооружения не спасли. Ущерб городу был очень значительным. В последующие годы наводнения были в Чехии, Германии, Австрии; во Франции и Италии летом — небывалая жара. Затем появились сообщения о проблемах с европейскими горнолыжными курортами и об ускоренном таянии льдов в Арктике.
Попав в 2004 году в Америку, я неоднократно слышал, как в качестве причины учащения и усиления ураганов, обрушивающихся на побережье Атлантики, называлось повышение температуры поверхностных слоев океана; во время путешествия в Rocky Mountains в Западной Канаде нас возили на ледник Athabasca и рассказывали как ежегодно уменьшается его площадь[9].
Все эти факты воспринимались мной как проявления некоего общего процесса потепления — без анализа, а просто по-житейски. Не помню при этом, чтобы кто-либо из моих знакомых высказывал мысль о том, что потепление — результат человеческой деятельности. Мне самому такое в голову тоже не приходило. Я, как и многие, считал переменчивость земного климата его естественной характеристикой и о причинах не задумывался. Вместе с тем, должен признаться, что когда позднее впервые узнал о том, что кто-то считает потепление результатом антропогенного загрязнения атмосферы, эта мысль дикой мне не показалась. Опять-таки из общих соображений. Ведь если люди ухитрились уже основательно загрязнить огромные территории на земле, а также озера, реки, моря и океаны — а уж в этом-то сомневаться не приходится, и всем нам известна масса таких фактов (включая, кстати говоря, и локальные изменения климата), то почему бы мне не поверить в то, что можно загрязнить и атмосферу? Я в этом смысле оптимист, верю в человека и его возможности.
Оказалось, однако, что мой «оптимизм» разделяют далеко не все. Очень многие уверены в том, что возможности человека ничтожно малы по сравнению с могущественными силами природы, и уж на климат, во всяком случае, человек повлиять ну никак не может. На чем эта уверенность основана, я так и не понял. Разве что на религиозном сознании или подсознании: уж как заведено творцом всего сущего, так и будет во веки веков.
И все же, даже и сто лет назад, когда общественное сознание было проникнуто религиозностью, вероятно, в большей степени, чем в нынешнее время, когда не случилось еще ни Хиросимы, ни Чернобыля, ни гигантских разливов нефти в океане, когда еще не обсуждался на полном серьезе проект переброски в Азию сибирских рек, уже и тогда находились люди, допускавшие мысль, что человек может повлиять на климат Земли.
Часть 1. Ранняя история исследований парникового эффекта земной атмосферы (1824 — 1960)
Глава 1. Добрые старые времена
Открытие парникового эффекта. Жозеф Фурье и Джон Тиндаль
Попытки понять взаимосвязь температуры Земли с составом её атмосферы, имеют долгую историю. За точку отсчёта мы примем статью знаменитого французского математика и физика Жана Батиста Жозефа Фурье, опубликованную в 1824 году в журнале Annales de Chimie et de Physique. Статья называлась «Remarques Générales Sur Les Températures Du Globe Terrestre Et Des Espaces Planétaires» [7]. В этой статье впервые была сформулирована идея парникового эффекта, создаваемого земной атмосферой.
Фурье больше известен своим вкладом в математику. Любой человек, имевший хоть какое-то отношение к точным наукам, слышал о рядах Фурье, о преобразовании Фурье, об уравнении Фурье и т.д. Как физик Фурье интересовался вопросами теплопроводности и теплообмена. Размышляя о том, чем определяется температура Земли, Фурье пришел к выводу, что Земля, нагретая излучением Солнца, также излучает тепло в пространство, и температура Земли определяется балансом приходящего и излучаемого потоков. Фурье еще не использовал термин «инфракрасное излучение», хотя оно уже было открыто Вильямом Гершелем в 1800 году, и называл излучение Земли «chaleur obscure» («невидимое тепло»).
Вместе с тем, из расчетов Фурье следовало, что небесное тело, не имеющее атмосферы и находящееся на таком расстоянии от Солнца как Земля, должно иметь значительно более низкую температуру, чем реальная температура Земли. Фурье пришел к выводу, что более высокая температура Земли объясняется тем, что земная атмосфера, которая пропускает излучение Солнца, поглощает часть «chaleur obscure», тем самым задерживая его и повышая температуру Земли. Этот эффект повышения температуры поверхности планеты благодаря наличию атмосферы был назван «парниковым эффектом» (greenhouse effect в англоязычной литературе), исходя из аналогии с обычным парником, повышение температуры в котором обеспечивается наличием крыши, сделанной из стекла или полимерной пленки, прозрачной для солнечных лучей, но задерживающей тепло. Иными словами, Фурье сообщил нам, что все мы живем в гигантском парнике, своеобразной крышей которого является атмосфера Земли.
Характерной особенностью почти всех открытий и достижений Фурье является их широкое практическое применение в сегодняшней науке и технике. Вот пример: лучшие современные приборы для получения инфракрасных спектров поглощения и испускания называются Фурье-спектрометрами. Название связано с тем, что основным узлом такого прибора является интерферометр Майкельсона, а спектр получается путем Фурье-преобразования интерферограммы. Повсеместный переход от классических приборов с призмой или дифракционной решеткой к Фурье-спектрометрам произошел во второй половине двадцатого века и многократно расширил возможности и увеличил эффективность спектроскопии как метода. Есть нечто символичное в том, что именно Фурье-спектрометры используются сейчас для исследования инфракрасных спектров атмосферных, в том числе парниковых газов.
Однако в 1824 году Фурье еще не знал, какие именно газы в составе атмосферы поглощают инфракрасное излучение. Спустя четверть века — в 1859 году — это выяснил Джон Тиндаль.
Ирландец по происхождению, большую часть жизни он провел в Англии, где с 1853 по 1887г. занимал должность профессора физики в Королевском Институте. В 1867 году он сменил Фарадея на посту директора этого Института и оставался в этой должности до 1887 года. В эти годы Джон Тиндаль был весьма популярной личностью. Он считался одним из лучших физиков-экспериментаторов своего времени. Он изобрел, разработал и усовершенствовал целый ряд измерительных приборов и выполнил множество экспериментальных работ в различных областях физики, в том числе исследования магнетизма и теплового (инфракрасного) излучения. Наибольшую известность получили его исследования рассеяния света в мутных средах — коллоидных растворах, эмульсиях, суспензиях (Тиндалевское рассеяние). Тиндаль был первым, кто объяснил голубой цвет неба. Однако не в меньшей степени он прославился как блестящий лектор, педагог и просветитель. На его лекциях в Королевском Институте аудитория обычно была переполнена. То же самое происходило и во время его поездки с лекциями по Америке. Он написал ряд книг по различным разделам физики, получивших высокую оценку таких выдающихся современников как Максвелл и Гельмгольц.
Свидетельством известности, далеко выходящей за пределы Соединенного Королевства, является упоминание Тиндаля в романе Льва Николаевича Толстого «Анна Каренина»[10]. Один из героев романа — Левин, увлеченно занимающийся хозяйством в своем имении, читает в то же время книгу Тиндаля о теплоте. Он вспоминает «весь ход своих мыслей, возбужденных чтением», и «свои осуждения Тиндалю за его самодовольство в ловкости производства опытов и за то, что ему недостатет философского взгляда». «Ход мыслей» Левина о книге прерывается сначала услышанным разговором о том, что некий Прохор «на те деньги, что ему подарил Левин, чтобы лошадь купить, пьет без просыпу и жену избил до смерти», затем радостной мыслью, что через два года у него в стаде будут «две голландки... и двенадцать молодых Беркутовых дочерей», но затем возвращается к Тиндалю: «Ну хорошо, электричество и теплота одно и то ж, но возможно ли в уравнении для решения вопроса поставить одну величину вместо другой? Нет. Ну так что же? Связь между всеми силами природы и так чувствуется инстинктом...»
Похоже, что Левину, то бишь Толстому, в отличие от Максвелла и Гельмгольца, как-то не импонирует «ловкость Тиндаля в производстве опытов». Он подозревает Тиндаля в самодовольстве, недостатке философского взгляда и инстинктивного чувства связи между всеми силами природы. Мне это чем-то напоминает претензии критиков теории GW к ее авторам.
Между тем, как и многие естествоиспытатели того времени, Тиндаль был человеком разносторонним и любознательным. Помимо физики, он интересовался геологией, был прекрасным альпинистом, совершил несколько рекордных восхождений в Альпах и вел наблюдения за состоянием ледников[11]. У него появилась идея, что возникновение ледникового периода миллионы лет назад, а затем таяние огромных масс льда 10000 лет назад было связано с изменениями парникового эффекта, а следовательно и температуры, из-за изменения содержания углекислого газа в атмосфере. Правда, мысль о том, что увеличение концентрации СО2 из-за сжигания углеродного топлива в человеческих жилищах и промышленных предприятиях того времени может вызвать существенное потепление, ему в голову не приходила. Первым, кто публично высказал такую мысль, был шведский ученый Сванте Аррениуc.
Гипотеза Сванте Аррениуса
Сванте Аррениус — один из основоположников современной физической химии. Особенно велик его вклад в теорию электролитической диссоциации и в исследования химических реакций в растворах электролитов. Эти работы принесли ему Нобелевскую премию по химии за 1903 год. Аррениус был, по-видимому, первым, кто ввел в химию чрезвычайно важное представление об энергии активации химической реакции. Соответственно, формулу, описывающую экспоненциальную зависимость константы скорости реакции от температуры с энергией активации в показателе экспоненты, называют обычно уравнением Аррениуса.
Научная деятельность Аррениуса одной лишь химией не ограничивалась. Впрочем, неизвестно, кем он считал себя в большей степени — химиком или физиком. Биографы Аррениуса отмечают, что он с детства отличался блестящими способностями к физике и математике, а использование математических вычислений в работе доставляло ему наслаждение. Диапазон его интересов был чрезвычайно широк: от астрофизики и космогонии до химии токсинов и иммунохимии.
В 1896 году в журнале Philosophical Magazine Аррениус опубликовал работу «On the Influence of Carbonic Acid in the Air upon the Temperature of the Ground» [9]. В этой работе, задавшись простой стационарной и равновесной моделью системы (Земля + атмосфера), он выполнил расчет вариации температуры Земли на различных широтах при вариации содержания углекислоты в атмосфере. Слова «простая модель» не должны вводить в заблуждение. Для работы вручную это были трудные и громоздкие расчеты. Аррениус разбил поверхность Земли от 70º северной широты до 60º южной широты на малые сегменты и для каждого такого сегмента рассчитывал падающий и испускамый поток излучения для дневного и ночного времени, для четырех сезонов и четырех различных концентраций углекислого газа.
Для расчетов нужны были данные об оптическом пропускании атмосферы, об инфракрасном излучении Земли, о распределении среднемесячных температур по широтам, о доле радиации, отражаемой земной поверхностью и т.д. Аррениус постарался использовать новейшие для того времени данные, однако впоследствии, разумеется, выяснилось, что часть этих данных неточна. Критики его работы отмечали также, что он не принял во внимание ряд важных факторов. Например, в его модель было заложено, что при увеличении концентрации углекислого газа и соответствующем небольшом повышении температуры, происходит увеличение испарения воды, что, в свою очередь, приводит к еще большему повышению температуры. Фактически это положительная обратная связь, которая обеспечивает значительное усиление эффекта. Однако критики возражали, что Аррениус не учел, что при повышении влажности пары воды конденсируются, образуются облака, а это увеличивает рассеяние солнечного света и ведет к снижению температуры.
В статье Аррениус пишет, что причиной, побудившей его взяться за столь трудоемкие расчеты, были дискуссии на заседании Физического Общества Стокгольма о природе Ледникового Периода. То есть мотив, по сути, тот же, что и у Тиндалла, — выяснить, может ли изменение состава атмосферы быть причиной образования или таяния ледников. Из расчетов следовало, что при уменьшении концентрации СО2 в два раза средняя температура Европы снизится на 4 — 5 ºС и, наоборот, удвоение содержания углекислого газа может вызвать повышение температуры примерно на такую же величину. Изменения температуры такого порядка уже достаточны, чтобы вызывать гигантские изменения ледового покрова. При этом расчеты предсказывали более значительные изменения в северном полушарии.
Чтобы прояснить вопрос о принципиальной возможности значительных изменений концентрации углекислого газа в атмосфере, Аррениус привлек к участию в работе профессора Арвида Хогбома, который считался специалистом по геохимии углерода. Из расчетов Хогбома следовало, что общее количество углекислоты, запасенной в известняке и других осадочных породах Земли в десятки тысяч раз превосходят ее содержание в атмосфере. А потому предположение, что содержание СО2 в атмосфере могло время от времени существенно изменяться, казалось вполне реальным. Более того, Хогбом полагал, что подобные изменения уже неоднократно происходили в истории Земли. Анализируя различные естественные геохимические процессы, которые могли приводить к поступлению углекислоты в атмосферу, они пришли к выводу, что наибольшую роль играли извержения вулканов, сгорание углеродсодержащих метеоритов в верхних слоях атмосферы и процессы образования карбонатов из силикатов при выветривании.
В процессе обсуждений Арвиду Хогбому пришла в голову экстравагантная идея: оценить количество двуокиси углерода, выбрасываемой в атмосферу при сжигания угля и другого топлива на промышленных предприятиях того времени. Он получил величину, сопоставимую с теми, которые поглощаются или испускаются при естественных геологических процессах. Она составляла примерно одну тысячную часть от количества, уже содержащегося в атмосфере. Так что они с Аррениусом пришли к заключению, что лет эдак через 3000, это может привести к повышению температуры Земли на те же самые 5 ºС, о чем Аррениус и написал в статье.
Аррениус, по-видимому, отдавал себе отчет в грубо-приблизительном характере расчетов и рассматривал результаты не как доказательство реальной опасности, грозящей человечеству, а скорее как любопытный теоретический факт. И все же в 1908 году, обнаружив, что за прошедшие десять лет объем промышленных выбросов углекислого газа значительно возрос, он в очередной статье и в книге «Worlds in the Making: The Evolution of the Universe» указывал возможность заметных изменений климата уже не через три тысячи, а через несколько сот лет. Эти предполагаемые изменения он склонен был рассматривать как положительное явление, способное предотвратить или отодвинуть наступление очередного ледникового периода.
(Продолжение следует.)
ПРИМЕЧАНИЯ
[1]Термин «глобальное потепление» появился в 70-х годах прошлого века с легкой руки американского исследователя Уоллеса Брокера (Wallace Smith Broecker) [1]. Термин не слишком удачный, так как потепление в принципе может быть вызвано различными процессами, в то время как сам Брокер подразумевал, что речь идет о потеплении именно антропогенного происхождения.
[2] В самое последнее время можно отметить некоторое повышение интереса и, одновременно, изменение тональности публикаций в России от сугубо скептической к более заинтересованной
[3] Больше других мне понравилась книга известного историка науки Спенсера Вирта (Spenсer R. Weart) [5] и серия его же статей в Интернете.
[4] Кое-какие соображения на этот счет появились у меня позднее. Но об этом в следующих частях.
[5] Киотский Протокол ратифицировали 192 страны. Не ратифицировали США, Андорра, Афганистан, Ирак, Палестинская Автономия, Республика Западной Сахары, Сан Марино, Сомали и Ватикан.
[6] Вопроса о роли и месте Альберта Гора в эпопее борьбы с глобальным потеплением мы еще не раз коснемся в дальнейшем.
[7] В конце 60-х — начале 70-х годов кафедрой руководил академик Кирилл Яковлевич Кондратьев, одновременно занимавший пост ректора университета (тогда еще Ленинградского).
[8] Один из них — профессор Михаил Васильевич Тонков — несомненно являлся лучшим или, во всяком случае, одним из лучших экспертов в области ИК спектроскопии атмосферных газов. К сожалению, Михаила Васильевича уже нет в живых. Однако его статья о спектроскопии парникового эффекта [6] является едва ли не единственной публикацией, где этот вопрос изложен достаточно полно и строго, и при этом на уровне, доступном большинству читателей.
[9] В 2009 и 20[В [9]2009 и 2010 годах мы вновь слышали и читали о тающих ледниках, о наводнениях в Польше, Чехии и Хорватии; видели по телевизору залитые водой улицы Варшавы и Загреба, дым от лесных пожаров над Москвой и изнывающих от рекордной жары москвичей. Из Греции поступали панические сообщения о бушующих лесных пожарах, о том, что огонь подбирается все ближе к Афинам, что сгорели десятки домов и что на помощь Греции направляются отряды МЧС России.
[10] Цитата из романа, где упоминается Тиндаль, найдена и любезно предоставлена в мое распоряжение М.Д. Голубовским, за что я ему очень признателен.
[11] Его именем названы один из ледников в Чили и горные пики в Калифорнии и Тасмании.
* Виталий Маркович Шрайбер, доктор физико-математических наук. Родился в 1944 году в Ленинграде. Окончил физический факультет Ленинградского (ныне Санкт-Петербургского) государственного университета. С 1967 по 2003 г. работал в НИИ Физики университета и на кафедре молекулярной спектроскопии физического факультета, в последние годы — в должности профессора. В качестве приглашенного исследователя работал в университетах Польши и Германии. С 2004 года живет в Калифорнии. Более 10 лет проработал в компании Air Liquide — Balazs NanoAnalysis в качестве специалиста по FTIR и Raman спектроскопии. Область интересов — применения спектроскопии в химии, материаловедении, физике атмосферы; история науки.
Опубликовано в журнале «Семь искусств» № 8(77) — август 2016 года.
 Книги / Книги /
 958 / 958 /
|
| Всего комментариев: 0 | |